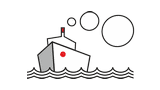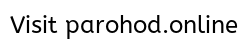
Евгений Андреев родился в 1932 году в городе Острогожске под Воронежем. После окончания института в 1954 году молодого строителя направили отстраивать послевоенный Новгород. О жизни, принципах работы и особенностях времени почётный гражданин Великого Новгорода рассказал в интервью «Пароход Онлайн».
– Моё детство пришлось на 33, 34, 35 годы, когда в Воронежской области был голод. Мои родители с трудом обеспечивали меня пропитанием.
В 1942 году фронт проходил через Острогожск. Войска по улицам города наступали на Сталинград.
Тогда я узнал, что такое бомбёжка. Отца забрали в армию. Мне было 10 лет, брату – пять. Мы остались с матерью, бабушкой и тётушкой, у которой тоже было двое детей. Мы решили покинуть город. Дедушка с нами не пошёл, сказав: «Я германцев в 14 году видел, чего бояться их теперь?». Далеко от города уйти не успели, потому что немцы высадили десант. Мы оказались между ними и нашими, которые должны были десант ликвидировать. С обеих сторон летели снаряды и пули. Мы целые сутки пролежали под огнём.
С пятого июля по 20 января 43 года мы оказались в оккупации. Моей матери Александре Петровне было 38 лет. С двумя детьми, не имея других источников для существования, она была вынуждена продавать оставшиеся вещи – золотые кольца, подвески. Только за счёт этого она как-то могла нас прокормить. Сначала мы вернулись в Острогожск, а потом были вынуждены уйти в деревню. Мама была фармацевтом. Она исполняла в деревне роль фельдшера, акушерки и фармацевтической работницы. За это население нам давало кто хлеба, кто картошки. Ну а когда приходили немцы и обирали деревню, положение становилось тяжелейшим…

В 1948 году я закончил восьмилетку и решил выбрать себе специальность. Отец уже вернулся из армии, был жив дедушка. Он-то мне и сказал: «Вся страна разрушена, поэтому лучшей специальности, чем строитель, не найдёшь, будешь всю жизнь обеспечен».
В 1952 году я с отличием закончил воронежский строительный техникум. У меня был выбор между московским инженерно-строительным институтом, МГТУ или московским университетом. Последние два занимались в большей степени теорией, а я уже привык по шесть месяцев на протяжении четырёх лет учёбы в воронежском строительном техникуме работать на восстановлении Воронежа. Я врос в специальность и поэтому поступил в московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В декабре 1954 года я его закончил.
Есть такая детская фантазия: уж если строить, так город. В то время действовало постановление ЦК и Совета министров о восстановлении 15 древнерусских городов, разрушенных в период Великой Отечественной войны: Воронежа, Орла, Белгорода, Новгорода и ряда других. В марте 1955 года я приехал в Новгород строить город с нуля.
Первые мои объекты – это жилой дом на Газоне, 3, комплекс всего квартала гостиницы «Волхов», за исключением двух домов, все остальные жилой дом на улице Карла Маркса, или как её сегодня называют в народе, бульвар Воскресения Карла Маркса.
А потом мне не дали работать по специальности. Поскольку я был секретарём комсомольской организации треста, меня решили выдвинуть на пост секретаря горкома комсомола, чтобы я занимался строительством с помощью молодёжи всего города. Мы начали со строительства набережной от пешеходного моста до моста Александра Невского к 1100-летию Новгорода.
В 1954 и 1955 годах были сильные наводнения, но проекты строительства набережной существовали и до этого. Такое желание имело 300-летнюю, а может быть даже и более давнюю историю.

– Если представить, что набережную до сих пор не построили, куда бы минувшей весной могла прийти вода?
– Вода стояла бы под окнами «Диеза», она была бы на Щитной улице и улице Тимура Фрунзе. В 66 году она была на этих улицах на уровне подоконников первых этажей жилых домов. Я был свидетелем этого.
После этого, работая в горкоме комсомола, я всё время занимался градостроительной деятельностью. Мы помогали рабочим завода «Волна» получить квартиры. Они строили дома для себя, и моя деятельность была связана с организацией работы комсомольских бригад. Специалистов на стройке у нас не хватало.
После горкома я вернулся в трест «Новгородстрой», был формально заместителем управляющего трестом, а фактически секретарём партийной организации. В 1962 году меня выдвинули первым заместителем секретаря горисполкома. Мне было 30. На этой должности я отработал 11 лет. Я отвечал за всё строительство в городе, включая возведение химкомбината и других промышленных объектов. Специфика органов власти в те годы была такова, что полномочий было достаточно для того, чтобы влиять на ход строительства любого объекта.
В 1962 году были внесены корректировки в генплан города Новгорода. Мы впервые замахнулись на численность населения в 200-250 тысяч жителей. На тот момент в областном центре проживало 67 тысяч человек. То есть город должен был вырасти в четыре раза.
При участии центральных органов власти была поставлена задача превратить Новгород в центр химической и радиотехнической промышленности. Не знаю, есть ли необходимость перечислять предприятия отрасли, которые существовали в Новгороде: завод полупроводников, «Волна», завод конденсаторов, трансформаторов, завод «50 лет Октября», электровакуумный завод. Существовал мощный комплекс, который курировало Министерство электронной промышленности.

Город каждый год принимал от восьми до 12 тысяч человек. Население росло, потому что предприятия требовали кадров. Вспомните историю, в 1944 году здесь было всего 40 разваленных коробок и полтора или два десятка жителей (о том, что представлял из себя Новгород в дни освобождения – читайте в нашем спецпроекте).
В 1962 году жильё предоставлялось бесплатно, если на одного члена семьи приходилось менее четырёх квадратных метров жилой площади. Мы поставили задачу: к 1972 году довести общую жилплощадь в городе до 12-15 квадратных метров на одного человека. С нами не соглашались центральные органы – Госплан СССР и РСФСР: «Зачем вы такие цифры берёте? Вам их не осилить». Хотели утвердить девять квадратных метров. Но благодаря первому секретарю обкома Владимиру Николаевичу Базовскому, с нами согласились на 15. Дали больше материальных ресурсов. У нас же, кроме глины, из которой можно было делать кирпич, и леса ничего не было.
Сегодня у нас в городе на одного жителя приходится порядка 28-29 квадратных метров жилой площади. Даже за последние 25 лет обеспеченность одного человека жилой площадью резко выросла. Развилась сеть предприятий социального обслуживания, улучшилось качество строительства, поскольку палитра строительных материалов гораздо разнообразнее того, что мы имели в 50-60 годах. К сожалению, тогда из-за нехватки ряда отделочных материалов страдало качество строительства хрущовок.
– Но сейчас же часто говорят, что наоборот, панельные дома позднего советского времени были по качеству лучше современных, в частности, с точки зрения шумоизоляции.
– Это мнение субъективно. Всё зависит от качества панели. За её производством не проследишь – какие использованы утеплители, шумоизоляция. Вот и получается, что у вас в доме все нормально, а в соседнем – через панель всё слышно. Кроме того, кто-то может не обращать внимания на происходящее за стенкой, а вы болезненно реагируете на любой шум.

В Советском союзе крупнопанельное домостроение было внедрено впервые в мире. До нас этого никто не делал. Первый крупнопанельный дом в Новгороде мы построили в 1968 году на Большой Конюшенной улице.
В 1995 году, работая начальником управления архитектуры и градостроительства Новгородской области, я поехал защищать диплом архитектора в США. Там я принимал участие в работе съезда архитекторов Америки в Хьюстоне. Меня попросили выступить. Сами американцы мне сказали: «Сейчас у вас много критикуют крупнопанельное жилищное строительство, неужто вы не понимаете, что это шаг вперёд в индустриализации».
Как в советское время у нас велось строительство? Возьмём 80-квартирный дом. Срок строительства с первого до последнего дня – 80 дней. 100-квартиный дом – 120 дней, 60-квартиный – 65. С нуля.
– Как вы относитесь к реновации хрущёвок?
В 1995 году мы обсуждали вопросы реновации жилья. Сказать что-то определённое в этом плане нельзя, потому что точка зрения может быть разной.
Москва начинала застраиваться хрущёвками никитинской серии (по фамилии конструктора Останкинской башни). По словам конструктора эти дома были рассчитаны на 50 лет. В 1995 году предлагалось снести эти дома в связи с истечением срока эксплуатации. Мы с периферии возражали, и опыт подтвердил нашу правоту: когда начался снос, мощная техника не могла справится с конструкциями. Тогда зачем их разбирать?

В Москве существуют другие причины реновации – необходимость уплотнения застройки, нехватки земли. А спрос на жильё в домах старых серий как был, так и останется. Люди находятся в разном социальном положении – кто-то получает 15 тысяч, а кто-то 150.
Я считаю, что идти на реновацию не надо, потому что спрос остаётся. Панельными домами застроен весь центр Москвы. Конечно, вместо пятиэтажного дома можно поставить дом в 25 этажей. Но как быть с детскими площадками, стоянками, озеленением? Эти вопросы не решаются. Либо эти нормы надо нарушать, либо сносить не одну пятиэтажку, а пять.
Ну и в отношении этажности: загоните любого человека на девятый или десятый этаж и попросите его выйти на балкон. Уверен, что 90% на балкон не выйдут, потому что на высоте в 40 метров человек психологически не может стоять. Москва лезет вверх. А как же вопросы пожарной безопасности? Что делать людям на верхних этажах, до которых не достаёт пожарная техника, если на третьем этаже загорелась квартира, и произошло задымление лестничных маршей и шахты лифта.
У нас мало места? Политики, принимающие решения о строительстве высоток на месте хрущовок, не прислушиваются к мнению профессиональных архитекторов. А созданием среды обитания должны заниматься они. Но когда председателем Минстроя является дирижёр кукольных театров по образованию, а вице-спикер по строительству – вообще неизвестного образования, о какой технической политике можно вести речь? Мы дискредитировали систему образования.
– В Великом Новгороде с марта обсуждается возможность реновации Шабровки. Стоит ли строит высотки на месте двухэтажек барачного типа на Германа и Кооперативной?
– Чтобы не называть дома на Шабровке бараками, зайдите в эти квартиры и посмотрите на их планировку, сравните с жильём в строящихся домах. Там и кухня повыше, и санузел, больше оконные проёмы и комнаты. Единственная проблемя – деревянные перекрытия, которые необходимо заменять. Но есть все коммунальные удобства. А с кирпичными стенами что может случиться? Любое здание может прийти в ветхое состояние при соответствующей эксплуатации.

Увы, когда строили соседние многоэтажки, Шабровку засыпали, подняли уровень дворов до уровня пола, чего нельзя было делать. Всё это можно исправить при желании и возможности вкладывать деньги. Можно надстроить один-два этажа. Только перед этим надо провести обследование фундаментов.
– Чем можно объяснить проблему новгородских недостроев – «Волны», бани на Великой и других зданий, которые портят «лицо» города? И как её можно решить?
– Вопрос недостроев напрямую связан со сложившейся политической системой в стране. Когда я работал председателем горисполкома, у меня была власть, её поддерживали. А сегодня власть муниципалитета урезана – формально есть, но полномочий не хватает. Возьмём дом на углу Большой Московской и Фёдоровского ручья: кто-то купил его и забросил, штукатурка осыпается, объект никому не нужен. Мэр города юридически не имеет возможности воздействия на собственников. Что это за власть?
В 1967 году мы ездили в Париж на мероприятие по линии ЮНЕСКО. Произошёл обмен мнений между мэром Парижа и Александром Александровичем Сизовым, председателем ленинградского горисполкома. Французский коллега поинтересовался, как удаётся содержать в таком идеально состоянии Невский проспект. Сизов говорит: «Уважаемый коллега, у нас есть власть. У вас её нет». Через три года приезжаем снова – Елисейские поля все вылизаны. Оказывается, после нашего первого визита из Франции в Ленинград приехала делегация. Обменялись опытом, были приняты необходимые законы и власти в принудительно ремонтировали фасады, а затем взыскивали в судебном порядке с владельцев зданий затраты на проведение работ.
Соответственно, и в современной России должен существовать закон, например, о принудительном изъятии объекта недвижимости, если его владелец в течение трёх лет не приводит его в порядок. Должны существовать механизмы воздействия на собственника. Это вопрос не местной власти, а федеральной.
– То есть существовавшая в советские годы система регулирования строительной отрасли гораздо совершеннее нынешней?
– Не только строительной отрасли, но и управления городами в целом. Ну разве нормально, что органы местного самоуправления в настоящее время лишены права контроля за ходом строительства. 90% работ остаются скрытыми. К примеру, строители сложили стену. Принимающая комиссия видит внешнюю и внутреннюю облицовку, но никто не знает, из чего сложена эта стена. В результате, всё зависит от порядочности подрядчика. Если он непорядочен, получается как в Боровичах и Чудове, где для сирот построили непонятно какие дома. В Кречевицах дом для ветеранов сделали на тяп-ляп. Органы местного самоуправления только выдают разрешения на строительство и принимают уже готовый объект, видя лишь 10% того, что им нужно видеть. И так по всей стране.